References
1. Baxandall M. Uzory intencii: Ob istoricheskom tolkovanii kartin [Patterns of Intention: On the Historical Interpretation of Pictures], transl. from Engl. by M.N. Sokolova. Мoscow: YuniPrint Publ., 2003.
2. Bart R. Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika: per. s frants. [Selected Works: Semiotics: Poetics: transl. from French], select., total ed., introduct. article by G.K. Kosikova. Мoscow: Progress Publ., 1989. Р. 147–148.
3. Baudrillard J. Soblazn [The Temptation], transl. from French by A. Garadzhi. Мoscow: Ad marginem Publ., 2000. Р. 124–126.
4. Britova N.N., Loseva N.M, Sidorova N.A. Rimskii skul'pturnyi portret [The Roman Sculptural Portrait]. Мoscow: Iskusstvo Publ., 1975.
5. Damisch H. Teoriya oblaka: Nabrosok istorii zhivopisi [Theory of the Cloud: A Sketch of the History of Painting], transl. from French by A. Shestakova. St. Petersburg: Nauka Publ., 2003. Р. 222–230.
6. Leskinen M.V. Mify i obrazy sarmatizma: Istoki nacional'noi ideologii Rechi Pospolitoi [Myths and Images of Sarmatianism: The Origins of the National Ideology of the Commonwealth]. Мoscow: Institute for Slavic Studies of the RAS Publ., 2002.
7. McCorquodale С. Ubranstvo zhilogo inter'era ot antichnosti do nashikh dnei: per. s angl. [The History of Interior Decoration: transl. from Engl.]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1990. Р. 71.
8. Tananaeva L.I. Sarmatskii portret: Iz istorii pol'skogo portreta epohi barokko [Sarmatian Portrait: From the History of the Polish Baroque Portrait]. Мoscow: Nauka Publ., 1979. Р. 71–73.
9. Ulashchik N.N. Vvedenie v izuchenie belorussko-litovskogo letopisaniya [Introduction to the Study of the Belarusian-Lithuanian Chronicle]. Мoscow: Nauka Publ., 1985.
10. Chikalova I.R. “Pogranich'e” kak sociokul'turnaya real'nost': konceptual'nye podhody k ego izucheniyu [“Borderlands” as a Sociocultural Reality: Conceptual Approaches to its Study]. Tsennostnye orientatsii i istoricheskoe soznanie naseleniya belorussko-rossiiskogo Prigranich'ya [Value Orientations and Historical Consciousness of the Population of the Belarusian-Russian Border], editorial board: I.M. Prishchepa et al. Vitebsk: VGU Publ., 2017.
11. Shchaveleva N.I. Drevnyaya Rus' v “Pol'skoi istorii” Yana Dlugosha (knigi 1–6): tekst, perevod i kommentariy [Ancient Russia in the Polish History by Jan Długosh (Books 1–6): Text, Translation, and Commentary], ed. and with add. by A.V. Nazarenko. Мoscow: Pamyatniki istoricheskoi mysli Publ., 2004. Р. 128–131.
12. Angyał E. Ṡwiat słowiańskiego Baroku. Przełozył J. Prokopik. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
13. Chrościcki J. Pompa funebris: z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. S. 255.
14. Elias N. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
15. Mańkowski T. Genealogia sarmatyzmu. Warszawa: Tow. Wydawnicze “Łuk”, 1946.
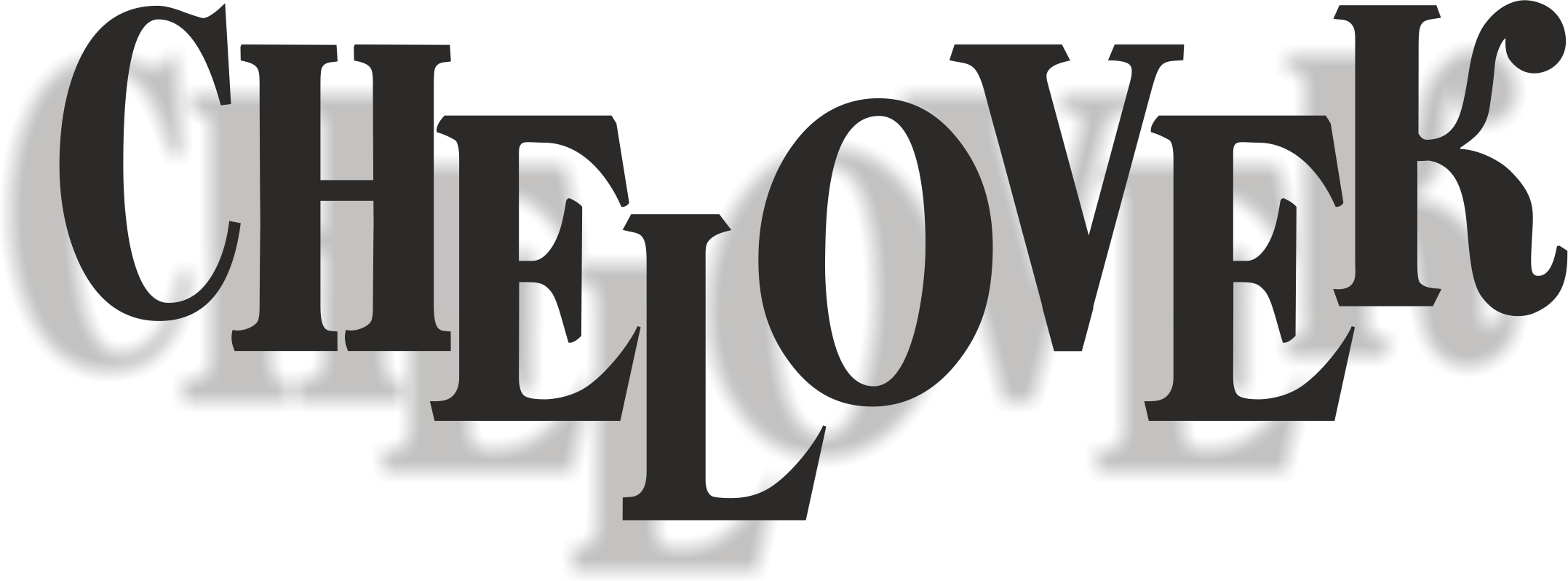
Comments
No posts found