References
1. Alexievich S.A. U vojny ne zhenskoe litso [The Unwomanly Face of War]. Мoscow: Vremya Publ., 2013.
2. Alexievich S.A. Vremya sekond hend [Second-hand Time]. Мoscow: Vremya Publ., 2013.
3. Arendt H. Istoki totalitarizma [The Origins of Totalitarianism]. Мoscow: CentrKom Publ., 1996.
4. Astafyev V.P. Moya voina. Pisatel' v okopah. Vojna glazami soldata [My War. Writer in the Trenches. War Through the Eyes of a Soldier]. Мoscow: ТD Algorithm Publ., 2012.
5. Astafyev V.P. Pastuh i pastushka [Shepherd and Shepherdess]. Мoscow: Knizhnaya palata Publ., 1996.
6. Astafyev V.P. Proklyaty i ubity [The Cursed and the Slain]. Мoscow: Eksmo Publ., 2007.
7. Beshanov V.V. Brestskaya krepost' [The Brest Fortress]. Мoscow: Yauza: Eksmo Publ., 2009.
8. Bykov V.V. Dozhit' do rassveta [To Live till Sunrise]. Мoscow: Eksmo Publ., 2010.
9. Bykov K.V. Poslednii triumf vermahta. Har'kovskii kotel [The Last Triumph of the Wehrmacht. The Kharkiv Boiler]. Мoscow: Yauza-press Publ., 2009.
10. Grossman V.S. Zhizn' i sud'ba [Life and Fate]. Kharkiv; Belgorod: Book Club “Family Leisure Club” Publ., 2016.
11. Neretina, S.S., Nikolsky S.A., Porus V.N. Filosofskaya antropologiya Andreya Platonova [Philosophical Anthropology of Andrey Platonov]. Мoscow: PAS Institute of Philosophy Publ., 2019.
12. Nikolsky S.A. Chelovek v totalitarnom gosudarstve. Voina i strah [A Person in a Totalitarian State. Article One. War and Fear]. Chelovek. 2020. Vol. 31, N 2. P. 128–149.
13. Nikolsky S.A., Mozhegov V. Rets. na kn.: Rybas S.Yu. Stalin (Moskva, 2009) [Book review: Rybas S.Yu. Stalin (Moscow, 2009)]. Voprosy filosofii. 2010. N 10. P. 163–166.
14. Platonov A.P. Chevengur. Kotlovan [Chevengur. The Foundation Pit], ed. by N.M. Malygina. Moscow: Vremya Publ., 2011. (Ser.: Sobranie sochinenii Platonova [Collected works of Platonov]).
15. Solonin M.S. Kak Sovetskii Soyuz pobedil v voine [How the Soviet Union Won the Great Patriotic War]. Moscow: Yauza-catalog Publ., 2018.
16. Hlevnyuk O.V. Sovetskaya ekonomicheskaya politika na rubezhe 1940–1950-h godov i “delo Gosplana” [Soviet Economic Policy at the Turn of 1940–1950's and “the Case of the State Planning Commission”]. Otechestvennaya istoriya. 2001. N 3.
17. Speer A. Tretii reih iznutri. Vospominaniya reihsministra voennoi promyshlennosti. 1930–1945 [Inside the Third Reich, Memoirs], transl. from Germ. by S. Lisogorskii. Moscow: Tsentrpoligraf Publ., 2005.
18. Gvardii serzhant i kapitanskaya dochka. Torzhestvo social'noi spravedlivosti [Guard Sergeant and Captain's Daughter. Celebration of Social Justice]. Livejournel. 2015. Nov. 7. URL: https://kineska.livejournal.com/203521.html (date of access: 27.03.2020).
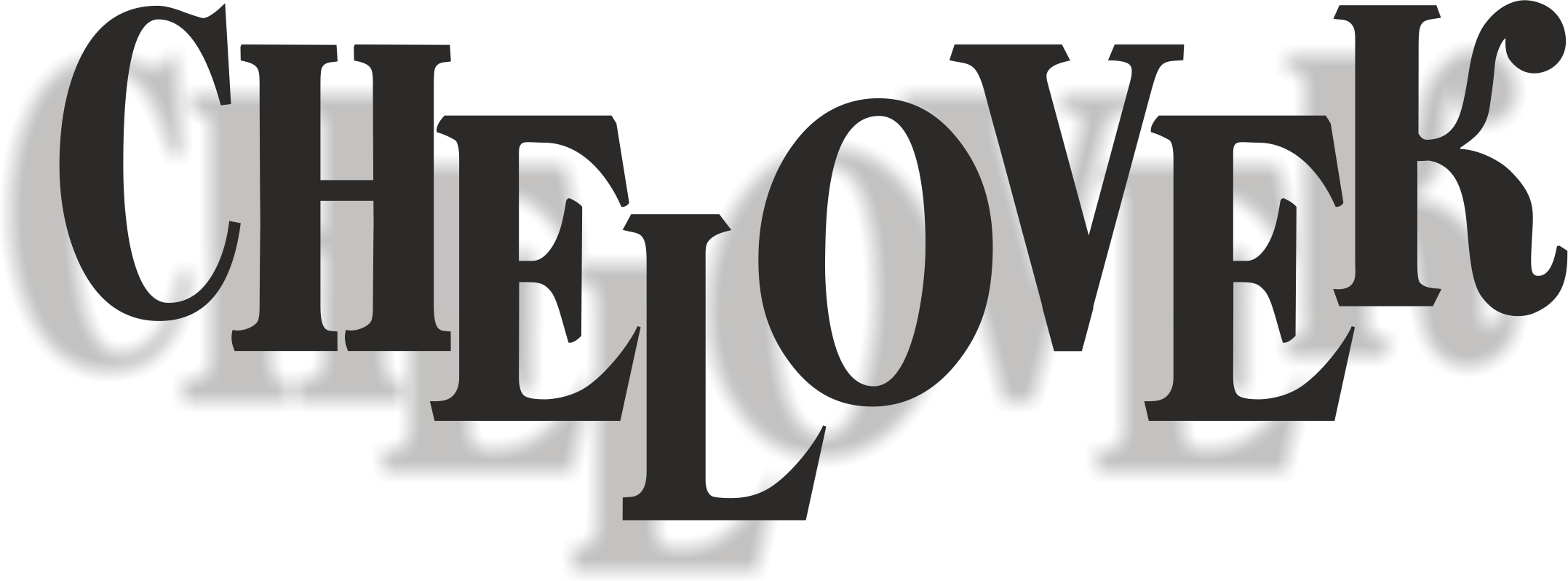
Comments
No posts found