References
1. Bataille G. Zhertvoprinosheniya [Sacrifices]. Kommentarii. 1993. N 2. Р. 40–48.
2. Bahtin M.M. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul’tura srednevekov’ya i Renessansa [Francois Rabelais' Creativity and Folk Culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1990.
3. Bulgakov S.N. Svet Nevechernii. Sozercanie I umozreniya [Light Nesecery. Contemplation and Speculation]. St. Petersburg: Oleg Аbyshko's Publ. House, 2008.
4. Vygotsky L.S. Psihologiya iskusstva [Psychology of Art]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1986.
5. Girshman M.M. Literaturnoe proizvedenie kak khudozhestvennaya celostnost': Istoki i osnovnoe soderzhanie ponyatiya [Literary Work as Artistic Integrity: Origins and Main Content of the Concept]. Doneckaya filologicheskaya shkola: opyt polifonicheskogo osmysleniya [Donetsk Philological School: An Experience of Polyphonic Comprehension]. Donetsk: Lebed’ Publ., 1997. P. 39–47.
6. Eremeev A.F. Granitcy iskusstva: social’naya sushhnost’ khudozhestvennogo tvorchestva [Borders of Art: The Social Essence of Artistic Creativity]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1987.
7. Ivanov Vyach. Ellinskaya religiya stradayushhego boga [The Hellenic Religion of the Suffering God]. Simvol. Zhurnal hristianskoi kul’tury. 2014. N 64. P. 7–219.
8. Lihachev D.S. Zametki ob istokah iskusstva [Notes on the Origins of Art]. Kontekst-1985: Literaturno-teoreticheskie issledovaniya [Context-1985: Literary Theoretical Research]. Moscow: Nauka Publ., 1986. P. 15–20.
9. Nabokov V. Putevoditel' po Berlinu; Blagost' [Berlin Travel Guide; Goodness]. Nabokov V. Sobranie sochinenii: v 4 t. [Collected Works: in 4 vol.]. Vol. 1. Moscow: Pravda Publ., 1990.
10. Podoroga V.A. Mimesis: Materialy po analiticheskoi antropologii literatury: v 2 t. [Mimesis: Materials on Analytical Anthropology of Literature: in 2 vol.]. Vol. 1. N. Gogol, F. Dostoevsky. Moscow: Kul’turnaya revolyuciya: Logos Publ., 2006.
11. Propp V.Y. Istoricheskie korni volshebnoi skazki [Historical Roots of the Fairy Tale]. Moscow: Labirint Publ., 2004.
12. Puzyrei A.A. Drama neistscelennogo razuma [Drama of the Untreated Mind]. Zoshchenko M. Povest’ o razume [A Tale About Reason]. Moscow: Pedagogika Publ., 1990. P. 149–183.
13. Roginskii Ya.Ya. Ob istokah iskusstva [About the Origins of Art]. Moscow: Moscow State Univ. Publ. House, 1982.
14. Semenova S. Dva polyusa russkogo ekzistencial’nogo soznaniya: Proza Georgiya Ivanova i Vladimira Nabokova [Two Poles of Russian Existential Consciousness: Prose by Georgy Ivanov and Vladimir Nabokov]. Novyi mir. 1999. N 9. P. 183–205.
15. Suchkov B. Tomas Mann [Thomas Mann]. Mann T. Sobranie sochinenii: v 10 t. [Collected Works: in 10 vol.]. Vol. 1. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., 1959. P. 3–37.
16. Tasalov V.I. Haos i poryadok: social’no-khudozhestvennaya dialektika [Chaos and Order: Social and Artistic Dialectics]. Moscow: Znanie Publ., 1990.
17. Toporov V.N. Pervobytnye predstavleniya o mire (obshhii vzglyad) [Primeval Representations of the World (Overall View)]. Toporov V.N. Mirovoe derevo: Universal’nye znakovye kompleksy: v 2 t. [World Tree: Universal Sign Complexes: in 2 vol.]. Vol. 1. Moscow: Rukopisnye pamyatniki Drevnei Rusi Publ., 2010.
18. Trostnikov V.N. Chelovek i informatsiya [Person and Information]. Moscow: Nauka Publ., 1970.
19. Fedorov V.V. Adekvatno li poniatie celostnosti po otnosheniyu k poehticheskomu miru? [Is the Concept of Integrity Adequate to the Poetic World?]. Doneckaya filologicheskaya shkola: opyt polifonicheskogo osmysleniya [Donetsk Philological School: An Experience of Polyphonic Comprehension]. Donetsk: Lebed’ Publ., 1997. P. 48–50.
20. Eliade M. Aspekty mifa [Aspects of the Myth]. Moscow: Akademicheskii proekt Publ., 2010.
21. Eliade M. Svyashennoe i mirskoe [The Sacred and the Secular]. Moscow: Moscow State Univ. Publ. House, 1994.
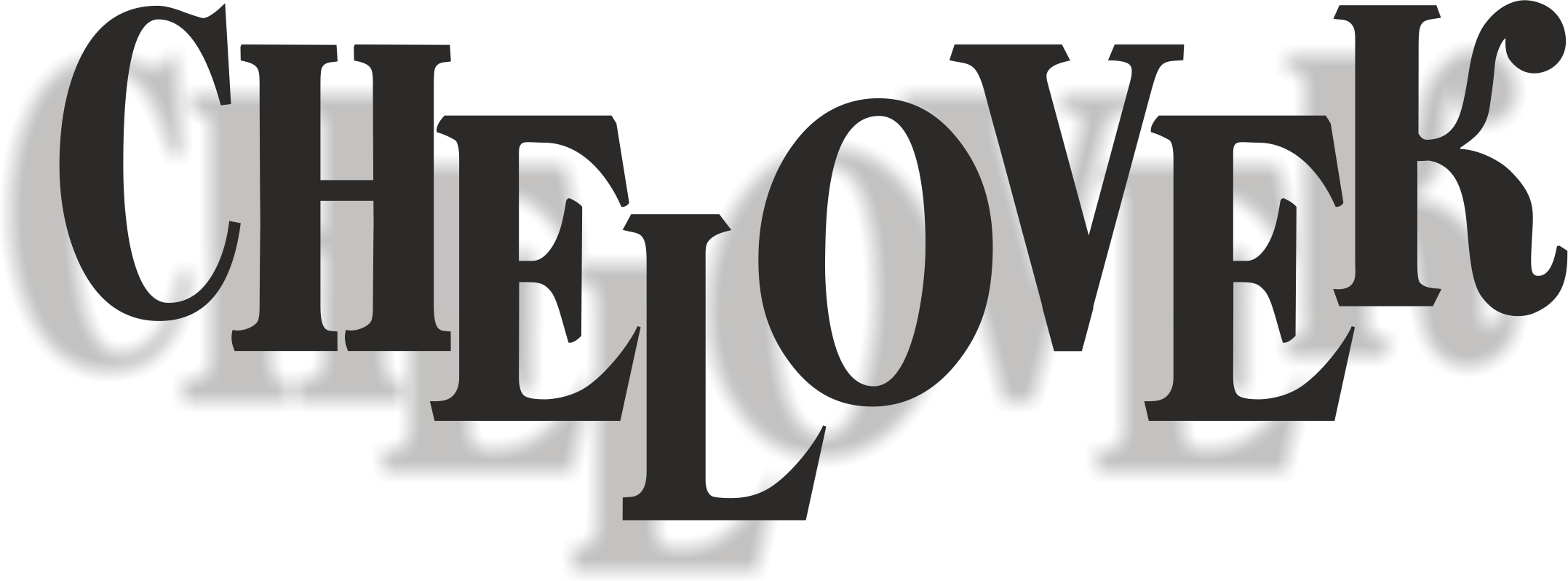
Comments
No posts found