References
1. Agamben G. Homo sacer. Chto ostaetsya posle Osvencima: arhiv i svidetel'. [Homo Sacer.What Remains After Auschwitz: Archive and Witness]. Moscow: Evropa Publ., 2012.
2. Adorno T. Chto znachit «prorabotka proshlogo» [What Does “Working Through the Past” Mean]. Neprikosnovennyy zapas. 2005. № 2‒3 (40‒41). P. 58–65.
3. Améry J. Po tu storonu prestupleniya i nakazaniya: Popytki odolennogo odolet' [Jenseits von Schuld und Sühne Bewältigungsversuche eines Überwältigten], transl. from Germ. by I. Ebanoidze. Moscow: Novoe izdatel'stvo, 2015.
4. Assman A. Dlinnaya ten' proshlogo: Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika [The Long Shadow of the Past: Memorial Culture and Historical Politics], transl. from Germ. by B. Khlebnikov. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye, 2014.
5. Baudelaire C. Cvety Zla. Stihotvoreniya v proze. Dnevniki. Jean-Paul Sartre. Baudelaire [Flowers of Evil. Poems in Prose. Diaries. Jean-Paul Sartre. Baudelaire], compil., intr. and comment. by: G.K. Kossikov. Moscow: Vysshaya Shkola Publ., 1993.
6. Baudrillard J. Intellekt zla ili pakt yasnosti [The Intelligence of Evil or the Pact of Clarity]. 2005. URL:https://oleg-maltsev.com/wp-ontent/uploads/2020/11/intellekt-zla-ili-pakt-yasnosti.-zhan-bodrijyar.pdf (date of access: 20.05.2022).
7. Baudrillard J. Prozrachnost' Zla [Transparency of Evil]. Moscow: Dobrosvet Publ., 2000.
8. Ivashina. O. “Yy lezhala na gore trupov, no ne sdalas”. Kak vyzhili i kak zhivut poslednie svideteli Holokosta [“I Was Lying on a Mountain of Corpses, but I Didn't Give Up”. How the Last Holocaust Witnesses Survived and How They Live]. BBC Russia, 27.01.2020.
9. Levi P. Kanuvshie i spasennye [Gone and Saved]. Moscow: Novoe izdatel'stvo Publ., 2010.
10. Lyotard J.-F. Heidegger i «evrei» [Heidegger and the “Jews”]. Saint Petersburg: Axioma Publ., 2001.
11. Mamardashvili M.K. Opyt fizicheskoj metafiziki. Vil'nyusskie lekcii po social'noj filosofii. Iyul' 1981 goda [The experience of Physical Metaphysics. Vilnius Lectures on Social Philosophy. July 1981]. 2009. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/5529/5542 (date of access: 20.05.2022).
12. Nikulin N. N. Vospominaniya o vojne [Memories of the War]. Saint Petersburg: Ermitazh Publ., 2008.
13. Podoroga V.A. Vina i otvetstvennost' — te nashi vozmozhnosti, kotorye otkryvayut soznatel'nyj put' k proshcheniyu i odnovremenno, k zabveniyu [Guilt and Responsibility are Our Opportunities that Open a Conscious Path to Forgiveness and, at the Same Time, to Oblivion.]. 2020. URL: https://www.gorby.ru/activity/conference/show_685/view_27421/ (date of access: 20.05.2022).
14. Podoroga V.A. Vremya posle [Time after]. Moscow: RIPOL Klassik Publ., 2019.
15. Poety — uzniki GULAGa [Poets — Prisoners of the GULAG], compil. by: Veselaya Z.A. Moscow: Vozvrashchenie Publ., 2011.
16. Ricœur P. Dialektika pamyati i zabveniya [Dialectics of memory and oblivion]. Kul'turologiya: Dajdzhest. 2002. N 1 (20). P. 57‒62.
17. Svendsen L. Filosofiya Zla [The Philosophy of Evil]. M.: Progress-Tradiciya, 2008.
18. Timofeeva L. Ispoved' uznikov Osvencima: Chtoby vyzhit', my eli travu i gazety [Confessions of Auschwitz prisoners: To survive, we ate grass and newspapers]. 2016. URL: https://myslo.ru/city/tula/tulyaki/ispoved-uznikov-lagerya-osventsim-chtobi-vizhit-mi-eli-travu-i-gazeti (date of access: 20.05.2022).
19. Filippova E.I. Istoriya i pamyat' v epohu gospodstva identichnostej (beseda s dejstvitel'nym chlenom Francuzskoj Akademii istorikom P. Norom) [History and Memory in the Era of the Domination of Identities (Conversation with a Full Member of the French Academy, Historian P. Nor)] Etnograficheskoe obozrenie. 2011. N 4. P. 75–84.
20. Heidegger M. Prolegomeny k istorii ponyatiya vremeni [Proleqomena zur qeschichte des zeitbegrifes]. Tomsk: Vodolej, 1998.
21. Chaadayev P.Ya. Filosoficheskiye pis'ma [Philosophical letters]. Chaadayev P.Ya. Polnoye sobraniye sochineniy i izbrannyye pis'ma: V 2 t. [Works and Selected Letters: in 2 Vol.]. Moscow: Nauka Publ., 1991. T. 1.
22. Shalamov V.T. Sobranie sochinenij: V 6 t. + t. 7, dop. T. 1: Rasskazy 30-h godov; Kolymskie rasskazy; Levyj bereg; Artist lopaty [Works: in 6 Vol. + Vol. 7. Vol. 1. Stories of the 30s; Kolyma Stories; Left Bank; Artist of Shovels], compil., intr., comment. by: I. Sirotinskaya. Moscow: Knizhnyj Klub Knigovek Publ., 2013.
23. Obidin De Y. Карл Ясперс: «Проблема вины» в немецком самосознании после Второй Мировой войны. URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2016/05/10/карл-ясперс-проблема-вины-в-немецко/ (дата обращения: 20.05.2022).
24. Obidin De Y. Karl Jaspers: «Problema viny» v nemeckom samosoznanii posle Vtoroj Mirovoj vojny [The “problem of guilt” in German Self-consciousness after the Second World War]. URL: https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2016/05/10/karl-yaspers-problema-viny-v-nemecko (date of access: 20.05.2022).
25. Vonnegut K. Jr. Wampeters, Foma and Grandfalloons: Opinions. New York, 1976.
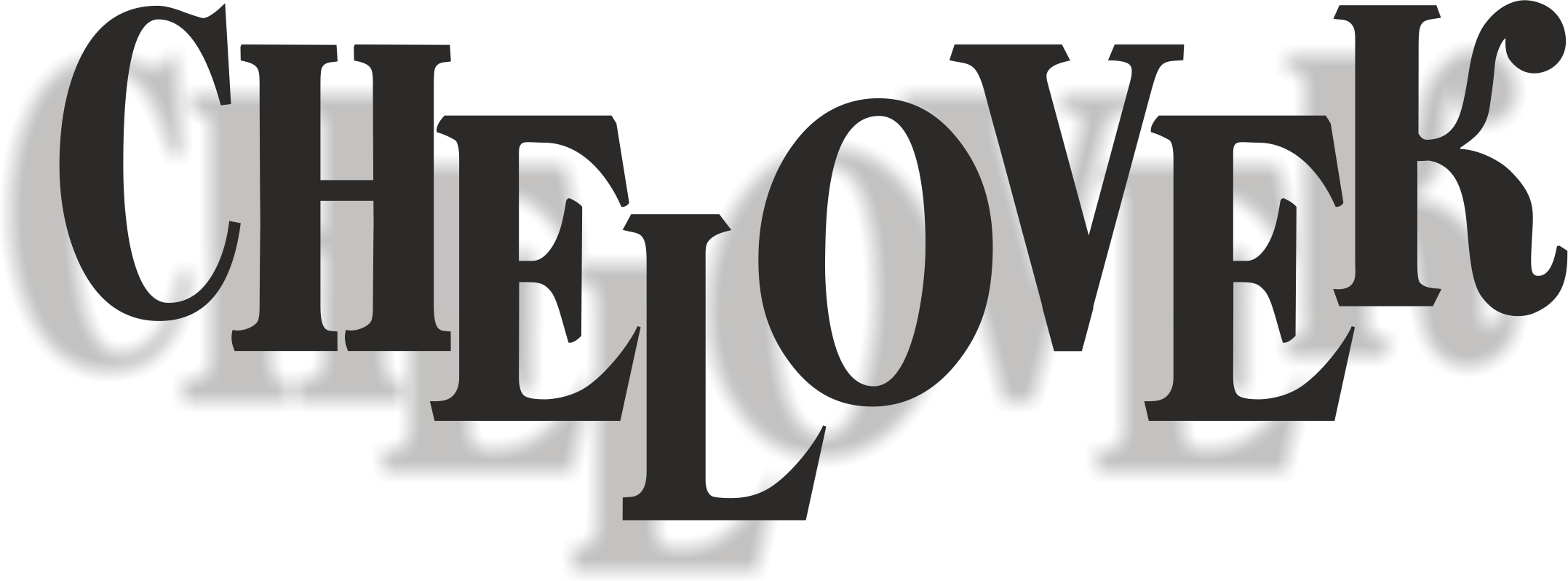
Comments
No posts found